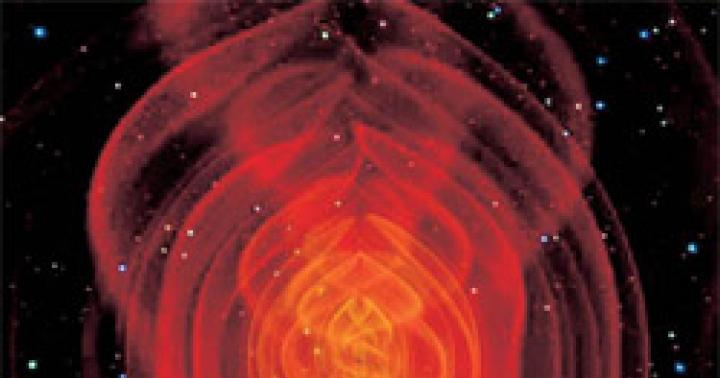…E come alpestre e rapido torrente,
Come acceso baleno
In notturno sereno,
Come aura o fumo, o come stral repente,
Volan le nostre fame: ed ogni onore
Sembra languido fiore!
Che più spera, o che s’attende omai?
Dopo trionfo e palma
Sol qui restano all’alma
Lutto e lamenti, e lagrimosi lai.
Che più giova amicizia o giova amore!
Ahi lagrime! ahi dolore!
«Torrismondo», tragedia di T. Tasso
Какое торжество готовит древний Рим?
Куда текут народа шумны волны?
К чему сих аромат и мирры сладкий дым,
Душистых трав кругом кошницы полны?
До Капитолия от Тибровых валов,
Над стогнами всемирныя столицы,
К чему раскинуты средь лавров и цветов
Бесценные ковры и багряницы?
К чему сей шум? К чему тимпанов звук и гром?
Веселья он или победы вестник?
Почто с хоругвией течет в молитвы дом
Под митрою апостолов наместник?
Кому в руке его сей зыблется венец,
Бесценный дар признательного Рима?
Кому триумф? – Тебе, божественный певец!
Тебе сей дар… певец Ерусалима!
И шум веселия достиг до кельи той,
Где борется с кончиною Торквато,
Где над божественной страдальца головой
Дух смерти носится крылатый.
Ни слезы дружества, ни иноков мольбы,
Ни почестей столь поздние награды –
Ничто не укротит железныя судьбы,
Не знающей к великому пощады.
Полуразрушенный, он видит грозный час,
С веселием его благословляет,
И, лебедь сладостный, еще в последний раз
Он, с жизнию прощаясь, восклицает:
«Друзья, о, дайте мне взглянуть на пышный Рим,
Где ждет певца безвременно кладбище!
Да встречу взорами холмы твои и дым,
О древнее квиритов пепелище!
Земля священная героев и чудес!
Развалины и прах красноречивый!
Лазурь и пурпуры безоблачных небес,
Вы, тополи, вы, древние оливы,
И ты, о вечный Тибр, поитель всех племен,
Засеянный костьми граждан вселенны, –
Вас, вас приветствует из сих унылых стен
Безвременной кончине обреченный!
Свершилось! Я стою над бездной роковой
И не вступлю при плесках в Капитолий;
Не усладят певца свирепой доли.
От самой юности игралище людей,
Младенцем был уже изгнанник;
Под небом сладостным Италии моей
Скитаяся как бедный странник,
Каких не испытал превратностей судеб?
Где мой челнок волнами не носился?
Где успокоился? Где мой насущный хлеб
Слезами скорби не кропился?
Сорренто! Колыбель моих несчастных дней,
Где я в ночи, как трепетный Асканий,
Отторжен был судьбой от матери моей,
От сладостных объятий и лобзаний, –
Ты помнишь, сколько слез младенцем пролил я!
Увы! с тех пор добыча злой судьбины,
Все горести узнал, всю бедность бытия.
Фортуною изрытые пучины
Разверзлись подо мной, и гром не умолкал!
Из веси в весь, из стран в страну гонимый,
Я тщетно на земли пристанища искал:
Повсюду перст ее неотразимый!
Повсюду молнии, карающей певца!
Ни в хижине оратая простого,
Ни под защитою Альфонсова дворца,
Ни в тишине безвестнейшего крова,
Ни в дебрях, ни в горах не спас главы моей,
Бесславием и славой удрученной,
Главы изгнанника, от колыбельных дней
Карающей богине обреченной…
Друзья! но что мою стесняет страшно грудь?
Что сердце так и ноет, и трепещет?
Откуда я? какой прошел ужасный путь,
И что за мной еще во мраке блещет?
Феррара… фурии… и зависти змия!..
Куда? куда, убийцы дарованья!
Я в пристани. Здесь Рим. Здесь братья и семья!
Вот слезы их и сладки лобызанья…
И в Капитолии – Вергилиев венец!
Так, я свершил назначенное Фебом.
От первой юности его усердный жрец,
Под молнией, под разъяренным небом
Я пел величие и славу прежних дней,
И в узах я душой не изменился.
Муз сладостный восторг не гас в душе моей,
И гений мой в страданьях укрепился.
Он жил в стране чудес, у стен твоих, Сион,
На берегах цветущих Иордана;
Он вопрошал тебя, мятущийся Кедрон,
Вас, мирные убежища Ливана!
Пред ним воскресли вы, герои древних дней,
В величии и в блеске грозной славы:
Он зрел тебя, Готфред, владыка, вождь царей,
Под свистом стрел спокойный, величавый;
Тебя, младый Ринальд, кипящий, как Ахилл,
В любви, в войне счастливый победитель.
Он зрел, как ты летал по трупам вражьих сил,
Как огнь, как смерть, как ангел-истребитель…
И тартар низложен сияющим крестом!
О, доблести неслыханной примеры!
О, наших праотцов, давно почивших сном,
Триумф святой! победа чистой веры!
Торквато вас исторг из пропасти времен:
Он пел – и вы не будете забвенны, –
Он пел: ему венец бессмертья обречен,
Рукою муз и славы соплетенный.
Но поздно! Я стою над бездной роковой
И не вступлю при плесках в Капитолий,
И лавры славные над дряхлой головой
Не усладят певца свирепой доли!»
Умолк. Унылый огнь в очах его горел,
Последний луч таланта пред кончиной;
И умирающий, казалося, хотел
У парки взять триумфа день единый,
Он взором всё искал Капитолийских стен,
С усилием еще приподнимался;
Но мукой страшною кончины изнурен,
Недвижимый на ложе оставался.
Светило дневное уж к западу текло
И в зареве багряном утопало;
Час смерти близился… и мрачное чело
В последний раз страдальца просияло.
С улыбкой тихою на запад он глядел…
И, оживлен вечернею прохладой,
Десницу к небесам внимающим воздел,
Как праведник, с надеждой и отрадой.
«Смотрите, – он сказал рыдающим друзьям, –
Как царь светил на западе пылает!
Он, он зовет меня к безоблачным странам,
Где вечное светило засияет…
Уж ангел предо мной, вожатай оных мест;
Он осенил меня лазурными крылами…
Приближьте знак любви, сей тАинственный крест…
Молитеся с надеждой и слезами…
Земное гибнет всё… и слава, и венец…
Искусств и муз творенья величавы,
Но там всё вечное, как вечен сам творец,
Податель нам венца небренной славы!
Там всё великое, чем дух питался мой,
Чем я дышал от самой колыбели.
О братья! о друзья! не плачьте надо мной:
Ваш друг достиг давно желанной цели.
Отыдет с миром он и, верой укреплен,
Мучительной кончины не приметит:
Там, там… о счастие!.. средь непорочных жен,
Средь ангелов, Элеонора встретит!»
И с именем любви божественный погас;
Друзья над ним в безмолвии рыдали,
День тихо догорал… и колокола глас
Разнес кругом по стогнам весть печали.
«Погиб Торквато наш! – воскликнул с плачем Рим, –
Погиб певец, достойный лучшей доли!..»
Наутро факелов узрели мрачный дым;
И трауром покрылся Капитолий.
Примечание к элегии «Умирающий Тасс»
Не одна история, но живопись и поэзия неоднократно изображали бедствия Тасса. Жизнь его, конечно, известна любителям словесности. Мы напомним только о тех обстоятельствах, которые подали мысль к этой элегии.
Т. Тасс приписал свой «Иерусалим» Альфонсу, герцогу Феррарскому («o magnanimo Alfonso!») – и великодушный покровитель без вины, без суда заключил его в больницу св. Анны, т. е. в дом сумасшедших. Там его видел Монтань, путешествовавший по Италии в 1580 г. Странное свидание в таком месте первого мудреца времен новейших с величайшим стихотворцем!.. Но вот что Монтань пишет в «Опытах»: «Я смотрел на Тасса еще с большею досадою, нежели с сожалением; он пережил себя: не узнавал ни себя, ни творений своих. Они без его ведома, но при нем, но почти в глазах его напечатаны неисправно, безобразно». Тасс, к дополнению несчастия, не был совершенно сумасшедший и, в ясные минуты рассудка, чувствовал всю горесть своего положения. Воображение, главная пружина его таланта и злополучий, нигде ему не изменяло. И в узах он сочинял беспрестанно. Наконец, по усильным просьбам всей Италии, почти всей просвещенной Европы, Тасс был освобожден (заключение его продолжалось семь лет, два месяца и несколько дней). Но он недолго наслаждался свободою. Мрачные воспоминания, нищета, вечная зависимость от людей жестоких, измена друзей, несправедливость критиков, одним словом – все горести, все бедствия, какими только может быть обременен человек, разрушили его крепкое сложение и привели по терниям к ранней могиле. Фортуна, коварная до конца, приготовляя последний решительный удар, осыпала цветами свою жертву. Папа Климент VIII, убежденный просьбами кардинала Цинтио, племянника своего, убежденный общенародным голосом всей Италии, назначил ему триумф в Капитолии. «Я вам предлагаю венок лавровый, – сказал ему папа, – не он прославит вас, но вы его!» Со времени Петрарка (во всех отношениях счастливейшего стихотворца Италии) Рим не видал подобного торжества. Жители его, жители окрестных городов желали присутствовать при венчании Тасса. Дождливое осеннее время и слабость здоровья стихотворца заставили отложить торжество до будущей весны. В апреле все было готово, но болезнь усилилась. Тасс велел перенести себя в монастырь св. Онуфрия; и там, окруженный друзьями и братией мирной обители, на одре мучений ожидал кончины. К несчастию, вернейший его приятель, Константини, не был при нем, и умирающий написал к нему сии строки, в которых, как в зеркале, видна вся душа певца Иерусалима: «Что скажет мой Константини, когда узнает о кончине своего милого Торквато? Не замедлит дойти к нему эта весть. Я чувствую приближение смерти. Никакое лекарство не излечит моей новой болезни. Она совокупилась с другими недугами и, как быстрый поток, увлекает меня… Поздно теперь жаловаться на фортуну, всегда враждебную (не хочу упоминать о неблагодарности людей!). Фортуна торжествует! Нищим я доведен ею до гроба, в то время как надеялся, что слава, приобретенная наперекор врагам моим, не будет для меня совершенно бесполезною. Я велел перенести себя в монастырь св. Онуфрия не потому единственно, что врачи одобряют его воздух, но для того, чтобы на сем возвышенном месте, в беседе святых отшельников начать мои беседы с небом. Молись богу за меня, милый друг, и будь уверен, что я, любя и уважая тебя в сей жизни и в будущей – которая есть настоящая, – не премину все совершить, чего требует истинная, чистая любовь к ближнему. Поручаю тебя благости небесной и себя поручаю. Прости! – Рим. Св. Онуфрий».
Тасс умер 10 апреля на пятьдесят первом году, исполнив долг христианский с истинным благочестием.
Весь Рим оплакивал его. Кардинал Цинтио был неутешен и желал великолепием похорон вознаградить утрату триумфа. По его приказанию, говорит Жингене в «Истории литературы итальянской», тело Тассово было облечено в римскую тогу, увенчано лаврами и выставлено всенародно. Двор, оба дома кардиналов Альдобрандини и народ многочисленный провожали его по улицам Рима. Толпились, чтобы взглянуть еще раз на того, которого гений прославил свое столетие, прославил Италию и который столь дорого купил поздние, печальные почести!..
Кардинал Цинтио (или Чинцио) объявил Риму, что воздвигнет поэту великолепную гробницу. Два оратора приготовили надгробные речи: одну латинскую, другую италианскую. Молодые стихотворцы сочиняли стихи и надписи для сего памятника. Но горесть кардинала была непродолжительна, и памятник не был воздвигнут. В обители св. Онуфрия смиренная братия показывает и поныне путешественнику простой камень с этой надписью: «Torquati Tassi ossa hic jacent». Она красноречива.
Февраль – май 1817
Т. Тасс приписал свой «Иерусалим» Альфонсу – То есть посвятил. – Ред .
o magnanimo Alfonso – «О великодушный Альфонс!» (итал.). – Ред .
Тасс умер 10 апреля на пятьдесят первом году – В действительности Тассо умер 25 апреля 1595 г. на 52-м году жизни. – Ред .
Torquati Tassi ossa hic jacent – Здесь лежат кости Торквато Тассо (лат.). – Ред .
“Умирающий Тасс”
В середине весны 1817 г. Батюшков закончил большую элегию “Умирающий Тасс”. Объясняя Вяземскому замысел стихотворения, он писал: “Кажется мне, лучшее мое произведение… А вот что Тасс: он умирает в Риме. Кругом его друзья и монахи. Из окна виден весь Рим, и Тибр, и Капитолий, куда папа и кардиналы несут венец стихотворцу. Но он умирает и в последний миг желает еще раз взглянуть на Рим,
…на древнее Квиритов пепелище.
Солнце в сиянии потухает за Римом и жизнь поэта… Вот сюжет”.
Хотя Батюшкову не удалось избежать в элегии декларативности и риторичности, за что, вероятно, она не понравилась Пушкину, назвавшему ее “тощим произведением”, тем не менее известный шаг в расширении возможностей элегии был им все-таки сделан.
В стихотворении доминирует романтический мотив судьбы как проявления власти роковых сил над личностью. Индивидуальная судьба героя рассматривается в контексте общих проблем бытия, напряженный драматизм произведения является следствием конфликта между героем и действительностью, что приводит к трагической развязке. Традиционная романтическая тема совпадает с любимой темой Батюшкова: поэт получает признание, и его ожидает торжество на излете жизни, когда путь страданий и скорбей остался уже позади. Эту личную тему поэт решает, выражая психологические переживания человека иной эпохи и иной культуры.
Торквато Тассо у Батюшкова - набожный христианин-католик и гражданин Рима, благоговейно относящийся к его славе. Вместе с тем он поэт, предающийся разнообразным впечатлениям. Он умел любить и не отрекался от земных наслаждений. Вся жизнь Тассо изображена Батюшковым как цепь беспримерных страданий. Всюду он был изгнанником, но “и в узах… душой не изменился”. Религиозно-философское настроение Тассо близко самому Батюшкову: ему, как и его герою, свойственны твердость, мужество и терпение, позволившее вынести горести, посланные “злой судьбиной”.
Как христианин, Тассо верит в загробный мир, во встречу с возлюбленной Элеонорой, а земную жизнь представляет скорбным преддверием вечного блаженного бытия. Тем самым переживания Тассо мотивированы воспитавшей его культурой, религиозными и общественными понятиями средневековой эпохи. Он мысленно обращается к Италии, видит ее “небо сладостное”, ему дороги Капитолий, священные горы, Тибр, “поитель всех племен”. Поэзия Тассо вдохновлена подвигами рыцарей, несших христианство на Ближний Восток. Воображение уносит итальянского поэта и в античные времена. Он жаждет триумфа, он честолюбив и знает, что “ему венец бессмертья обречен, Рукою муз и славы соплетенный”. Наконец, он - пророк, потому что предсказывает себе печальную участь и давно предузнал свой жизненный жребий. Вот это сплетение национально-исторических примет, призванных придать образу Тассо индивидуально-человеческую характерность, пожалуй, и было тем новым словом, которое сказал Батюшков в этой исторической (эпической) элегии.
Умирающий Тасс:
Элегия
("Какое торжество готовит древний Рим?..")
Какое торжество готовит древний Рим? Куда текут народа шумны волны? К чему сих аромат и мирры сладкий дым, Душистых трав кругом кошницы полны? До Капитолия от Тибровых валов, Над стогнами всемирныя столицы, К чему раскинуты средь лавров и цветов Бесценные ковры и багряницы? К чему сей шум? К чему тимпанов звук и гром? Веселья он или победы вестник? Почто с хоругвией течет в молитвы дом Под митрою апостолов наместник? Кому в руке его сей зыблется венец, Бесценный дар признательного Рима? Кому триумф? - Тебе, божественный певец! Тебе сей дар... певец Ерусалима! И шум веселия достиг до кельи той, Где борется с кончиною Торквато, Где над божественной страдальца головой Дух смерти носится крылатый. Ни слезы дружества, ни иноков мольбы, Ни почестей столь поздние награды - Ничто не укротит железныя судьбы, Не знающей к великому пощады. Полуразрушенный, он видит грозный час, С веселием его благословляет, И, лебедь сладостный, еще в последний раз Он, с жизнию прощаясь, восклицает: «Друзья, о, дайте мне взглянуть на пышный Рим, Где ждет певца безвременно кладбище! Да встречу взорами холмы твои и дым, О древнее квиритов пепелище! Земля священная героев и чудес! Развалины и прах красноречивый! Лазурь и пурпуры безоблачных небес, Вы, тополи, вы, древние оливы, И ты, о вечный Тибр, поитель всех племен, Засеянный костьми граждан вселенны, - Вас, вас приветствует из сих унылых стен Безвременной кончине обреченный! Свершилось! Я стою над бездной роковой И не вступлю при плесках в Капитолий; Не усладят певца свирепой доли. От самой юности игралище людей, Младенцем был уже изгнанник; Под небом сладостным Италии моей Скитаяся как бедный странник, Каких не испытал превратностей судеб? Где мой челнок волнами не носился? Где успокоился? Где мой насущный хлеб Слезами скорби не кропился? Сорренто! Колыбель моих несчастных дней, Где я в ночи, как трепетный Асканий, Отторжен был судьбой от матери моей, От сладостных объятий и лобзаний, - Ты помнишь, сколько слез младенцем пролил я! Увы! с тех пор добыча злой судьбины, Все горести узнал, всю бедность бытия. Фортуною изрытые пучины Разверзлись подо мной, и гром не умолкал! Из веси в весь, из стран в страну гонимый, Я тщетно на земли пристанища искал: Повсюду перст ее неотразимый! Повсюду молнии, карающей певца! Ни в хижине оратая простого, Ни под защитою Альфонсова дворца, Ни в тишине безвестнейшего крова, Ни в дебрях, ни в горах не спас главы моей, Бесславием и славой удрученной, Главы изгнанника, от колыбельных дней Карающей богине обреченной... Друзья! но что мою стесняет страшно грудь? Что сердце так и ноет, и трепещет? Откуда я? какой прошел ужасный путь, И что за мной еще во мраке блещет? Феррара... фурии... и зависти змия!.. Куда? куда, убийцы дарованья! Я в пристани. Здесь Рим. Здесь братья и семья! Вот слезы их и сладки лобызанья... И в Капитолии - Вергилиев венец! Так, я свершил назначенное Фебом. От первой юности его усердный жрец, Под молнией, под разъяренным небом Я пел величие и славу прежних дней, И в узах я душой не изменился. Муз сладостный восторг не гас в душе моей, И гений мой в страданьях укрепился. Он жил в стране чудес, у стен твоих, Сион, На берегах цветущих Иордана; Он вопрошал тебя, мятущийся Кедрон, Вас, мирные убежища Ливана! Пред ним воскресли вы, герои древних дней, В величии и в блеске грозной славы: Он зрел тебя, Готфред, владыка, вождь царей, Под свистом стрел спокойный, величавый; Тебя, младый Ринальд, кипящий, как Ахилл, В любви, в войне счастливый победитель. Он зрел, как ты летал по трупам вражьих сил, Как огнь, как смерть, как ангел-истребитель... И тартар низложен сияющим крестом! О, доблести неслыханной примеры! О, наших праотцов, давно почивших сном, Триумф святой! победа чистой веры! Торквато вас исторг из пропасти времен: Он пел - и вы не будете забвенны, - Он пел: ему венец бессмертья обречен, Рукою муз и славы соплетенный. Но поздно! Я стою над бездной роковой И не вступлю при плесках в Капитолий, И лавры славные над дряхлой головой Не усладят певца свирепой доли!» Умолк. Унылый огнь в очах его горел, Последний луч таланта пред кончиной; И умирающий, казалося, хотел У парки взять триумфа день единый, Он взором всё искал Капитолийских стен, С усилием еще приподнимался; Но мукой страшною кончины изнурен, Недвижимый на ложе оставался. Светило дневное уж к западу текло И в зареве багряном утопало; Час смерти близился... и мрачное чело В последний раз страдальца просияло. С улыбкой тихою на запад он глядел... И, оживлен вечернею прохладой, Десницу к небесам внимающим воздел, Как праведник, с надеждой и отрадой. «Смотрите, - он сказал рыдающим друзьям, - Как царь светил на западе пылает! Он, он зовет меня к безоблачным странам, Где вечное светило засияет... Уж ангел предо мной, вожатай оных мест; Он осенил меня лазурными крылами... Приближьте знак любви, сей тАинственный крест... Молитеся с надеждой и слезами... Земное гибнет всё... и слава, и венец... Искусств и муз творенья величавы, Но там всё вечное, как вечен сам творец, Податель нам венца небренной славы! Там всё великое, чем дух питался мой, Чем я дышал от самой колыбели. О братья! о друзья! не плачьте надо мной: Ваш друг достиг давно желанной цели. Отыдет с миром он и, верой укреплен, Мучительной кончины не приметит: Там, там... о счастие!.. средь непорочных жен, Средь ангелов, Элеонора встретит!» И с именем любви божественный погас; Друзья над ним в безмолвии рыдали, День тихо догорал... и колокола глас Разнес кругом по стогнам весть печали. «Погиб Торквато наш! - воскликнул с плачем Рим, - Погиб певец, достойный лучшей доли!..» Наутро факелов узрели мрачный дым; И трауром покрылся Капитолий.
ПРИМЕЧАНИЕ К ЭЛЕГИИ «УМИРАЮЩИЙ ТАСС»
Не одна история, но живопись и поэзия неоднократно изображали бедствия Тасса. Жизнь его, конечно, известна любителям словесности. Мы напомним только о тех обстоятельствах, которые подали мысль к этой элегии.
Т. Тасс приписал свой «Иерусалим» Альфонсу, герцогу Феррарскому («o magnanimo Alfonso!») - и великодушный покровитель без вины, без суда заключил его в больницу св. Анны, т. е. в дом сумасшедших. Там его видел Монтань, путешествовавший по Италии в 1580 г. Странное свидание в таком месте первого мудреца времен новейших с величайшим стихотворцем!.. Но вот что Монтань пишет в «Опытах»: «Я смотрел на Тасса еще с большею досадою, нежели с сожалением; он пережил себя: не узнавал ни себя, ни творений своих. Они без его ведома, но при нем, но почти в глазах его напечатаны неисправно, безобразно». Тасс, к дополнению несчастия, не был совершенно сумасшедший и, в ясные минуты рассудка, чувствовал всю горесть своего положения. Воображение, главная пружина его таланта и злополучий, нигде ему не изменяло. И в узах он сочинял беспрестанно. Наконец, по усильным просьбам всей Италии, почти всей просвещенной Европы, Тасс был освобожден (заключение его продолжалось семь лет, два месяца и несколько дней). Но он недолго наслаждался свободою. Мрачные воспоминания, нищета, вечная зависимость от людей жестоких, измена друзей, несправедливость критиков, одним словом - все горести, все бедствия, какими только может быть обременен человек, разрушили его крепкое сложение и привели по терниям к ранней могиле. Фортуна, коварная до конца, приготовляя последний решительный удар, осыпала цветами свою жертву. Папа Климент VIII, убежденный просьбами кардинала Цинтио, племянника своего, убежденный общенародным голосом всей Италии, назначил ему триумф в Капитолии. «Я вам предлагаю венок лавровый, - сказал ему папа, - не он прославит вас, но вы его!» Со времени Петрарка (во всех отношениях счастливейшего стихотворца Италии) Рим не видал подобного торжества. Жители его, жители окрестных городов желали присутствовать при венчании Тасса. Дождливое осеннее время и слабость здоровья стихотворца заставили отложить торжество до будущей весны. В апреле все было готово, но болезнь усилилась. Тасс велел перенести себя в монастырь св. Онуфрия; и там, окруженный друзьями и братией мирной обители, на одре мучений ожидал кончины. К несчастию, вернейший его приятель, Константини, не был при нем, и умирающий написал к нему сии строки, в которых, как в зеркале, видна вся душа певца Иерусалима: «Что скажет мой Константини, когда узнает о кончине своего милого Торквато? Не замедлит дойти к нему эта весть. Я чувствую приближение смерти. Никакое лекарство не излечит моей новой болезни. Она совокупилась с другими недугами и, как быстрый поток, увлекает меня... Поздно теперь жаловаться на фортуну, всегда враждебную (не хочу упоминать о неблагодарности людей!). Фортуна торжествует! Нищим я доведен ею до гроба, в то время как надеялся, что слава, приобретенная наперекор врагам моим, не будет для меня совершенно бесполезною. Я велел перенести себя в монастырь св. Онуфрия не потому единственно, что врачи одобряют его воздух, но для того, чтобы на сем возвышенном месте, в беседе святых отшельников начать мои беседы с небом. Молись богу за меня, милый друг, и будь уверен, что я, любя и уважая тебя в сей жизни и в будущей - которая есть настоящая, - не премину все совершить, чего требует истинная, чистая любовь к ближнему. Поручаю тебя благости небесной и себя поручаю. Прости! - Рим. Св. Онуфрий».
Тасс умер 10 апреля на пятьдесят первом году, исполнив долг христианский с истинным благочестием.
Весь Рим оплакивал его. Кардинал Цинтио был неутешен и желал великолепием похорон вознаградить утрату триумфа. По его приказанию, говорит Жингене в «Истории литературы итальянской», тело Тассово было облечено в римскую тогу, увенчано лаврами и выставлено всенародно. Двор, оба дома кардиналов Альдобрандини и народ многочисленный провожали его по улицам Рима. Толпились, чтобы взглянуть еще раз на того, которого гений прославил свое столетие, прославил Италию и который столь дорого купил поздние, печальные почести!..
Кардинал Цинтио (или Чинцио) объявил Риму, что воздвигнет поэту великолепную гробницу. Два оратора приготовили надгробные речи: одну латинскую, другую италианскую. Молодые стихотворцы сочиняли стихи и надписи для сего памятника. Но горесть кардинала была непродолжительна, и памятник не был воздвигнут. В обители св. Онуфрия смиренная братия показывает и поныне путешественнику простой камень с этой надписью: «Torquati Tassi ossa hic jacent». Она красноречива.
Февраль - май 1817
Т. Тасс приписал свой «Иерусалим» Альфонсу - То есть посвятил. - Ред.
o magnanimo Alfonso - «О великодушный Альфонс!» (итал.). - Ред.
Тасс умер 10 апреля на пятьдесят первом году - В действительности Тассо умер 25 апреля 1595 г. на 52-м году жизни. - Ред.
Torquati Tassi ossa hic jacent - Здесь лежат кости Торквато Тассо (лат.). - Ред.
Умирающий Тасс. Впервые - «Опыты», стр. 243-253. Печ. по ним с учетом правки ст. 38 и 40, сделанной Батюшковым при подготовке нового издания книги. Поэт хотел поместить элегию в начале «Опытов» - «на место» портрета, но потом решил, что «поместить можно будет в конце» (Соч., т. 3, стр. 417 и 421), что и сделал Гнедич, получивший стихотворение, когда книга уже печаталась (по этой причине оно не попало в раздел элегий). Прозаическое примечание к «Умирающему Тассу» заканчивалось строками, которые Батюшков вычеркнул, не желая, чтобы они попали в новое издание «Опытов»: «Да не оскорбится тень великого стихотворца, что сын угрюмого севера, обязанный «Иерусалиму» лучшими, сладостными минутами в жизни, осмелился принесть скудную горсть цветов в ее воспоминание». В этом примечании Батюшков использовал том 2 книги «О литературе Южной Европы» Симонда де Сисмонди (1773-1842) и том 5 «Истории итальянской литературы» французского поэта и критика Пьера Луи Женгене (1748-1816). Как раз в пору сочинения «Умирающего Тасса» Батюшков узнал из газет о смерти Женгене и писал по этому поводу Вяземскому: «Это меня очень опечалило. Я ему много обязан и на том свете, конечно, благодарить буду» (Соч., т. 3, стр. 431). Эпиграф - из трагедии Тассо «Торрисмондо» (д. 5). В письме к Вяземскому от 4 марта 1817 г. Батюшков заметил, что, работая над поэмой, он «перечитал все, что писано о несчастном Тассе, напитался „Иерусалимом“» (Соч., т. 3, стр. 429), т. е., очевидно, перечитал и «Освобожденный Иерусалим». Об этом же он сообщил и в письме к Жуковскому от июня 1817 г. (там же, стр. 447). Одним из свидетельств повышенного интереса Батюшкова к личности Тассо в 1817 г. было то, что он перевел и напечатал в ВЕ «Письмо Бернарда Тасса к Порции о воспитании детей» (письмо отца поэта к его матери) (Соч., т. 2, стр. 282-287). Еще до окончания элегии Батюшков сообщил Вяземскому ее план: «а вот что Тасс: он умирает в Риме. Кругом его друзья и монахи. Из окна виден весь Рим и Тибр, и Капитолий, куда папа и кардиналы несут венец стихотворцу. Но он умирает и в последний ‹раз› желает еще взглянуть на Рим, «...на древнее квиритов пепелище» ‹неточная автоцитата›. Солнце в сиянии, потухает за Римом и жизнь поэта... Вот сюжет» (Соч., т. 3, стр. 429). В этом сюжете Батюшкова особенно волновала тема смерти, как вершина славы и злоключений поэта. Послав элегию друзьям, Батюшков получил от них замечания, сделанные по его просьбе; некоторые отверг, а некоторые учел при подготовке «Опытов». Считая элегию своим «лучшим произведением», Батюшков в письме к Гнедичу от 27 февраля 1817 г. утверждал: «И сюжет, и все мое. Собственная простота» (Соч., т. 3, стр. 419). Несмотря на это, Батюшков иногда высказывал об элегии довольно скептические суждения, что вызывалось прежде всего его обычной писательской мнительностью. Так, в письме к Гнедичу он заметил: «Я послал тебе «Умирающего Тасса», а сестрица послала тебе чулки; не знаю, что тебе более понравится, и что прочнее, а до потомства ни стихи, ни чулки не дойдут: я в этом уверен» (Соч., т. 3, стр. 437). Поэт выражал желание, чтобы тему смерти Тассо использовали русские художники. В начале июля 1817 г. он просил Гнедича: «Шепнул бы ты Оленину ‹президенту Академии художеств›, чтобы он задал этот сюжет для Академии. Умирающий Тасс - истинно богатый предмет для живописи. Не говори только, что это моя мысль: припишут моему самолюбию. Нет, это совсем иное! Я желал бы соорудить памятник моему полуденному человеку, моему Тассу» (Соч., т. 3, стр. 456-457). В самом конце своего творческого пути Батюшков сочинил еще какое-то произведение о Тассо: одну из его вещей, уничтоженных в 1821 г., перед помешательством, Жуковский обозначил словом «Тасс» (Соч., т. 1, стр. 294 в). Современники видели в элегии Батюшкова отражение его собственных страданий, а после того как он сошел с ума, и предчувствие трагического конца поэта. Вяземский называл душевнобольного Батюшкова «нашим Торквато» (стихотворение «Зонненштейн»). М. А. Дмитриев, свидетельствуя о том, что «Умирающий Тасс» был «любимым стихотворением» Батюшкова из его «собственных произведений», писал: «Странно, что это предпочтение как будто указывает на сходство судьбы двух поэтов и как будто было ее предчувствием!» («Мелочи из запаса моей памяти». М., 1869, стр. 196). По выражению Кюхельбекера, современники и более поздние критики Батюшкова «кадили ему за это стихотворение» «громкими похвалами» (В. К. Кюхельбекер. Дневник. Л., 1929, стр. 182). Его высоко оценили С. С. Уваров (ВЕ, 1817, № 23-24, стр. 207) и П. А. Плетнев, написавший специальную статью об элегии («Сочинения и переписка П. А. Плетнева», т. 1. СПб., 1885, стр. 96-112). Однако В. В. Капнист, по совету которого Батюшков в 1808 г. стал переводить «Освобожденный Иерусалим», выразил недовольство тем, что Батюшков вместо продолжения перевода написал элегию о смерти Тассо. В послании к Батюшкову он писал:
Зачем великолепно Тасса Решился вновь похоронить, Когда средь русского Парнаса Его ты мог бы воскресить?
Пушкин на полях «Опытов» писал: «Эта элегия конечно ниже своей славы... сравните «Сетования Тассо» поэта Байрона с сим тощим произведением. Тасс дышал любовью и всеми страстями, а здесь, кроме славолюбия и добродушия... ничего не видно. Это - умирающий В‹асилий› Л‹ьвович› - а не Торквато» (П, т. 12, стр. 283); Василии Львович - В. Л. Пушкин, умерший в 1830 г. (см. о нем стр. 309-310). Белинский отмечал в элегии «глубокое чувство» и «энергический талант» (Б, т. 1, стр. 166), однако позднее он, указывая на достоинства элегии, вместе с тем утверждал, что в ней присутствуют «надутая риторика» и «трескучая декламация» (Б, т. 7, стр. 251). Элегия была переведена на французский язык и вошла в «Русскую антологию», изданную Сен-Мором в 1823 г. В рецензии на нее в «Journal de Paris» (1824) «Умирающий Тасс» был отнесен к числу наиболее оригинальных произведений современной русской литературы.
Капитолий - см. стр. 269.
Тибр - река, протекающая через Рим.
Стогны - площади.
Багряница - одежда из ткани ярко-красного цвета, носившаяся царями и знатью в особо торжественных случаях.
Тимпан - древний ударный музыкальный инструмент.
Певец Ерусалима - Тассо, написавший поэму «Освобожденный Иерусалим».
Полуразрушенный, он видит грозный час. Эпитетом «полуразрушенный» Батюшков в пору сочинения элегии характеризовал самого себя, что подчеркивает ее автобиографичность (см. Соч., т. 3, стр. 132).
Квириты - официальное название граждан в древнем Риме.
Под небом сладостным Италии моей. Батюшков в письме к Гнедичу от начала июля 1817 г. утверждал: «Вообще италианцы, говоря об Италии, прибавляют «моя». Они любят ее, как любовницу. Если это ошибка против языка, то беру на совесть» (там же, стр. 455).
Сорренто - город в Италии, родина Тассо.
Асканий - см. стр. 269; упоминание этого персонажа связано, видимо, с тем, что он потерял мать во время бегства из Трои; это соответствовало и биографии Тассо, лишившегося матери в возрасте десяти лет, и биографии самого Батюшкова, у которого рано умерла мать.
Весь - селение, деревня.
Альфонсов дворец - дворец феррарского герцога Альфонса II.
Сион - иерусалимская крепость.
Иордан - река в Палестине.
Кедрон (Кидрон) - долина в Палестине близ Иерусалима.
Ливан - горы в Сирии, покрытые могучими лесами.
Готфред и
Ринальд - крестоносцы, герои поэмы Тассо «Освобожденный Иерусалим».
Царь светил - солнце.
Элеонора - возлюбленная Тассо, сестра герцога Альфонса II.
Вся жизнь Тасса есть истинная Поэзия. В некотором смысле, его назвать можно Эдипом новой Истории. Младенцем он принужден был оставить родину как изгнанник. В цветущем возрасте призванный ко Двору Альфонса и на мгновенье обласканный счастьем, он вдруг увидел себя в мрачном заключении. Казалось, что неблагосклонная к нему судьба не давала ему во всю жизнь успокоения: она переводила беспрестанно свою жертву от одного несчастия к другому.
Но смерть Тасса едва ли не превосходит все, что только созидал вымысел очаровательного. Здесь, кажется, в первый раз История своею Поэзиею побеждает роскошную Мифологию. Смеем сказать, что если стихотворец, решившись изобразить смерть Тасса, чувствует в себе силу исполнить достойным образом свое предприятие, то он превосходный Писатель. Когда предмет в прозаическом своем виде (если можно так выразиться) уже блистает лучшими красотами Поэзии, то каких от нее требуется усилий, чтоб она положила на него собственную печать и возвела его в свою сферу! Несправедливо думать, что Поэзия в подобном случае должна ограничиться верным списыванием с Природы. Тогда не будут выполнены требования Изящных Искусств. В них ни одно произведение не должно оставаться без того, что в их теории называется идеальным. Само слово поэзия означает создание, без чего она не получает своего имени. Конечно, иной род Поэзии менее требует идеального, другой более, но совсем без него невозможно указать ни одного произведения, которое бы справедливо называлось Поэзией. Буколические стихотворения ближе других подражают простой природе. Но если в них поэт совершенно отвергнет идеальное, то простота его превратится в грубость, а Поэзия в испорченную прозу. Причина сего очень понятна: Природа созидает для многих целей, а Изящные Искусства для одной.
История указала нашему Автору величайшего Поэта Италии, который в превосходной Поэме прославил доблести Христианских витязей (происшествие, едва ли не единственное в новейшей Истории, по богатству предметов для Эпопеи!), который привлек к себе все, что последует за величайшею славою: удивление, любовь, зависть и гонение, который потерею личной свободы и омрачением разума заплатил ужасную дань исполинским успехам своего гения, который голосом целой Италии вызван был из убийственного своего жилища к торжеству единственному и известному только в стенах гордого Рима; который наконец неумолимою смертью похищен от устремленных на него взоров признательности накануне счастливейшего дня бурной своей жизни. Наш Поэт, не отступая от исторической истины, ее повествование представил в действии. В Лирическом стихотворении он не мог заключить более нескольких часов из жизни славного страдальца и выбрал самые последние. Его созидательное воображение не забыло ни одного предмета, которые должны были служить к довершению полноты и прелести целого произведения. В нем каждая часть есть оконченная, превосходная картина, в которой самый взыскательный вкус не находит почти ни одного недостатка.
Вот начало сей Элегии:
Какое торжество
готовит древний Рим?
Куда текут народа шумны волны?
К чему сих аромат и мирры сладкий дым,
Душистых трав кругом кошницы полны?
До Капитолия от Тибровых валов,
Над стогнами всемирныя столицы
К чему раскинуты, средь лавров и цветов,
Бесценные ковры и багряницы?
К чему сей шум? К чему тимпанов звук и гром?
Веселья он, или победы вестник?
Почто с хоругвией течет в молитвы дом
Под митрою Апостолов Наместник?
Кому в руке его сей зыблется венец,
Бесценный дар признательного Рима?
Кому триумф? Тебе, божественный певец!
Тебе сей дар, певец Ерусалима!
Первая прелесть языка Поэзии состоит в так называемой пластической красоте. Изложение метафизических идей, сколько бы ни были они тонки и занимательны, охлаждает Поэзию. В приведенных стихах только первый заключает в себе отвлеченное понятие: торжество. Далее нет ни одного предмета, который бы не был осязательным. Вот что заключается в столь известном правиле Горация: ut pictura роеsis! Рассматривая огромную картину целого Рима, который готовится к торжеству, невозможно надивиться довольно, как умел стихотворец заключить ее в такой тесной раме! Между тем, в ней ничто не забыто. Напрасно будет искать воображение, чем бы ее пополнить. Часто у стихотворцев в подобных описаниях встречаются общие места так, что многиe предметы, упоминаемые при изображении Рима, без труда можно перенести в Москву или Пекин. Это составляет недостаток местности. Здесь, напротив того, все переносит читателя в столицу древнего мира. Стихотворец мог бы изложить все свои мысли не в виде вопросов, но утвердительно. Тогда его картина лишилась бы прелестного своего движения, которое восхищает нас, подобно зрелищу живых существ в панораме. Здесь видишь любопытного путешественника, который быстро ходит по стогнам Рима, на все смотрит с удивлением и хочет узнать причину всеобщего торжества.
Но где же тот, для кого весь Рим стекается в Капитолий?
И шум веселия достиг до кельи той,
Где борется с кончиною Торквато:
Где над божественной страдальца головой
Дух смерти носится крылатый.
Ни слезы дружества, ни иноков мольбы,
Ни почестей столь поздние награды,
Ничто не укротит железныя судьбы,
Не знающей к великому пощады.
Полуразрушенный, он видит грозный час,
С веселием его благословляет,
И, лебедь сладостный, еще в последний раз
Он с жизнию прощаясь, восклицает:
Переход поразительный от картины шумного веселя к мрачной келье умирающего! Только истинное одушевление так легко, свободно и, между тем, так естественно переходить может от одного предмета к другому. Без лирического восторга души никакое напряжение, никакое усилие ума не наведет на сии блестящие красоты, которые заключаются в быстром течении мыслей. Трудно понять, как мгновенно стихотворец оставил многолюдную толпу народа и привлек все наше внимание к одру полуразрушенного Тасса. Он умел воспользоваться счастливым случаем и нам изложил мимоходом важную моральную истину:
Ни что не укротит желзныя судьбы,
Не знающей к великому пощады.
Если такое изречение поставить отдельно от предмета, поэтически изображенного, или начать им период, то оно, само по себе, как холодная и отчасти странная мысль, покажет недостаток чувства и не произведет никакого действия. Нравоучение Лирической Поэзии только тогда и бывает на своем месте, когда оно неумышлено и, так сказать, невольно. Надобно ли останавливаться на таких счастливых украшениях, каково, например сравнение умирающего Поэта с лебедем сладостным? Сего рода красотами исполнено все, рассматриваемое нами, стихотворение.
По нашему мнению, самая смелая родилась мысль у Автора при составлении сего сочинения, когда он в Лирическом стихотворении заставил вместо себя говорить самого Тасса. Он отважился быть на время тем лицом, которое прежде только описывал. Для исполнения сей мысли ему надобно было принять в душу свою все то, что чувствовал вдохновенный страдалец. В драматическом стихотворении ход действия облегчает труды Автора. Речи действующих лиц становятся занимательнее по мере того, как их намерения приближаются к своему исполнению. Но здесь нет другого действия, кроме изображения чувствований. В поэтическом одушевлении легко изображать свои чувствования; потому что они колеблют нашу душу. За другого легче думать, а не чувствовать. Первое зависит от соображения, всем нам общего, а последнее от особенной способности принимать впечатления. Таким образом стихотворец подвергался здесь опасности навести скуку читателям, если бы он вдался в холодные или неумеренно-пламенные восклицания. Сверх того, чтобы говорить за Тасса, когда он в самом трогательном положении, надобно было соблюсти все очарование Поэзии, которая у него неподражаема; прибавим: надобно было упитаться духом его Освобожденного Иерусалима и всею сладостью Италии. После всего сказанного нами, невозможно без особенного удивления читать, как превосходно исполнил Автор отважную мысль свою.
Друзья! о, дайте мне взглянуть на пышный Рим,
Где ждет певца безвременно кладбище!
Да встречу взорами холмы твои и дым,
О древнее Квиритов пепелище!
Земля священная героев и чудес!
Развалины и прах красноречивый!
Лазурь и пурпуры безоблачных небес,
Вы, тополи, вы, древния оливы,
И ты, о вечный Тибр, поитель всех племен,
Засеянный костьми граждан вселенной:
Вас, вас приветствует из сих унылых стен
Безвременной кончине обреченный!
Автор заставил Тасса прежде всего обратиться к Риму, что всего естественнее. Для поэта Италии Рим навсегда останеться источником вдохновения: там он подчерпнет для себя все высокое и прекрасное. Но Тасс имеет особенную причину приветствовать Рим пред своею смертью: в нем созрела последняя и сладчайшая отрада бедственной его жизни. Между тем, кто не заметит особенного искусства, с каким наш поэт начертал новую картину сего города? Нет в ней повторения: здесь живыми красками означены только те предметы, которые священны для поэта. Роскошная природа и величественная древность составляют все, к чему стремиться душа его, улетающая в другой мир.
В минуты последнего борения с жизнью, кто не пробежит воспоминанием протекшего своего времени? Или, как говорит поэт: (*Сельское кладбище, Элегия Жуковского.)
Кто в час последний свой сим миром не пленялся,
И взора томного назад не обращал?
Таким образом, Тасс, чувствуя, что он не в состоянии пересилить неблагосклонной к нему судьбы, что он не насладится последним и единственным утешением, которое уготовила для него поздняя признательность, начинает исчислять все свои прежние страдания и тем произносит упрек своему счастью:
"Свершилось! Я стою над бездной роковой
И не вступлю при плесках в Капитолий;
Не усладят певца свирепой доли.
От самой юности игралище людей,
Младенцем был уже изгнанник;
Под небом сладостными Италии моей
Скитаяся, как бедный странник,
Каких не испытал превратностей судеб?
Где мой челнок волнами не носился?
Где успокоился? Где мой насущный хлеб
Слезами скорби не кропился?
Соренто, колыбель моих несчастных дней,
Где я в ночи, как трепетный Асканий,
Отторжен был судьбой от матери моей,
От сладостных объятий и лобзаний!
Ты помнишь, сколько слез младенцем пролил я!
Увы, с тех пор, добыча злой судьбины,
Все горести узнал, всю бедность бытия!
Фортуною изрытые пучины
Разверзлись подо мной, и гром не умолкал.
Из веси в весь из стран (*) в страну гонимый
Я тщетно на земле пристанища искал:
Повсюду перст ее неотразимый,
Повсюду молнии, карающей певца. (**)
Ни в хижине оратая простого,
Ни под защитою Альфонсова дворца,
Ни в тишине безвестнейшего крова,
Ни в дебрях, ни в горах не спас главы моей
Бесславием и славой удрученной,
Главы изгнанника, от колыбельных дней,
Карающей богине обреченной…
Друзья! Но что мою стесняет страшно грудь?
Что сердце так и ноет и трепещет?
Откуда я? Какой прошел ужасный путь,
И что за мной еще во мраке блещет?
Феррара…фурии…и зависти змея!…
Куда, куда убийцы дарованья?
Я в пристани: здесь Рим; здесь братья и семья;
Вот слезы их и сладкие лобзанья…
И в Капитолии Виргилиев венец!
(*) Если бы здесь можно было поставить: из страны, то выражение сделалось бы точнее и правильнее.
(**) Во всей элегии только эти два стиха мы находим менее совершенными других. Если в первом стихе местоимение
"ее" отнести (как и должно по пунктуации оригинала) к слову
"фортуна", то второй стих совершенно потеряет смысл. Если же это местоимение относится к слову
"молния" во втором стихе, то олицетворение молнии, карающей перстом своим человека, ослабляет ее действие в естественном виде; при том же обороте этого периода становиться не совсем русским. У нас многие Первоклассные Поэты употребляют личное местоимение прежде имени, как здесь, повсюду перст ее... повсюду молнии, например А. Пушкин:
Она пришла, пора стихов…
Или он же:
Ты их узнала, дева гор…
Поэтическое повествование, не отступая от исторического, должно иметь свой характер, свои красоты, свою цель. Стихотворец гораздо быстрее Историка переходит от одной эпохи к другой. Между тем он обращает внимание свое не столько на число происшествий, сколько на подробности некоторых. Чем сильнее рассказ его поражает воображение и чувства, тем он прекраснее. Одною резкою чертою, которая должна глубоко запечатлеться в памяти читателя, поэт заменяет исчисление случаев по обстоятельствам подразумеваемых. Исторический рассказ наводит на какую-нибудь важную истину, которая сама собою должна образоваться в уме читателя. Рассказ Поэзии хочет доставить нам благородное, высокое наслаждение, каковы, например, слезы сострадания, чистая радость, непритворное умиление и тому подобное. Применяя эти общие правила к изображению жизни Тасса, начертанному поэтом нашим, мы видим, как он ясно постигал все тайны поэтического искусства. У него соблюдена удивительная полнота в целом. Он принял своего героя от колыбели и провел перед нами чрез все поприще его жизни. Воображение с такою легкостью за ним следует, что успевает дать отчет рассудку в каждом возрасте Тасса. И что еще более? Язык Тасса переменяется по мере того, как он начинает приходить к какому-нибудь новому обстоятельству в своей жизни. Обращение к Соренто, месту его рождения, есть образец трогательного. В Ферраре он на некоторое время приходит в то исступление, которое положило мрачную печать на сей период его жизни. Вот в чем состоит естественность Поэзии! Мы уверены, что приведенные стихи не выходят из уст Тасса: однако слепо соглашаемся, что он иначе не стал бы говорить о себе. Наш поэт так изучил наперед свой предмет, что привел некоторые места точно из сочинений Тасса, как например: сравнение его с Асканием. В Поэзии встречаются иногда самые простые выражения, которые однако ж так удачно бывают употреблены, что чем больше их рассматриваешь, тем более находишь прекрасными. Это можно почувствовать, прочитавши стих:
Под небом сладостным Италии моей.
Тасс называешь Италию своею в том смысле, что он в ней родился. Между тем сколько еще других понятий при этом выражении пробуждается в душ читателя! Тасс должен назвать Италию своею потому, что невозможно произнести имени страны сей, не вспоминая той славы, которую он ей доставил, тех страданий, которые он в ней перенес и которые также слились с ее именем, наконец, тех почестей, которые она ему воздать готовилась. И так одно слово становится источником бесчисленного множества других мыслей. Если бы мы могли предаться подробному разбору стихов, то подобные красоты находили бы в каждом периоде.
"Так, я свершил назначенное Фебом:
От первой юности его усердный жрец,
Под молнией, под разъяренным небом,
Я пел величие и славу прежних дней,
И в узах я душой не изменился.
Муз сладостный восторг не гас в душе моей,
И гений мой в страданьях укрепился.
Он жил в стран чудес, у стен твоих, Сион,
На берегах цветущих Иордана,
Он вопрошал тебя, мутящийся Кедрон,
Вас, мирные убежища Ливана!
Пред ним воскресли вы, герои древних дней,
В величии и в блеске грозной славы:
Он зрел тебя, Готфред, владыка, вождь Царей;
Под свистом стрел, спокойный, величавый;
Тебя, младой Ринальд, кипящий, как Ахилл,
В любви, в войне счастливый победитель:
Он зрел, как ты летал по трупам вражьих сил,
Как огнь, как смерть, как Ангел-истребитель...
И тартар низложен сияющим крестом!
О доблести неслыханной примеры!
О наших праотцов, давно почивших сном,
Триумф святой, победа чистой веры!
Торквато вас исторг из пропасти времен:
Он пел - и вы не будете забвенны;
Он пел: ему венец бессмертья обречен,
Рукою Муз и славы соплетенный.
Но поздно: я стою над бездной роковой
И не вступлю при плесках в Капитолий,
И лавры славные над дряхлой головой
Не усладят певца свирепой доли!"
Победа над всеми несчастьями, которые преследовали нас в жизни, рождает в душе благородную гордость. С каким-то удовольствием воспоминаешь прошедшие горести, если чувствуешь, что достоинство человека в борьбе с напастями ничем не было унижено. Но еще более наслаждения в подобных воспоминаниях, когда деяния наши остались немолчными памятниками нашей славы и укоризною врагам нашим. Вот почему здесь находим мы перемену в ходе рассматриваемого нами стихотворения: Тасс не мог сокрыть в душе своей, сколько он перенес страданий от судьбы и от людей. Как человек, он в слезах жаловался на жизнь свою. Но вдруг, исполнясь одушевления, он является поэтом, и бедствия жизни исчезают. Он видит одно прекрасное, одно великое, к чему он стремился и чего достигнул. Кто упрекнет его в мелком самолюбии, когда он говорит:
Так, я свершил назначенное Фебом!
Это чувство, внушаемое тем гением, который разрешает Поэта от земных уз и возносит его в высшую Сферу, где нет ни гордости, ни зависти; где истина, забывая все ничтожное отношение земной личности, не стыдится говорить о своем достоинстве! Здесь говорит тот же гений, который извлек из уст Горация:
Exegi monumentum aere perennius,
Regalique situ pyramidum altius…
и Державина:
Врагов моих червь кости сгложет:
А я Поэт - и не умру.
Певец Иерусалима виден здесь в каждом стихе. Священные места, на которых ратовали его герои, цветут перед нами. Христианские витязи, со всеми, самыми малейшими, оттенками характеров, изображены в нескольких строках. Но изнеможение страдальца берет верх над его минутным одушевлением, и он невольно обращается к первому, горестному своему чувству: но поздно!
Умолк. Унылый огнь в очах его горел,
Последний луч таланта пред кончиной;
И умирающий, казалося, хотел
У Парки взять триумфа день единый.
Он взором все искал Капитолийских стен,
С усилием еще приподнимался;
Но, мукой страшною кончины изнурен,
Недвижимый на ложе оставался.
Светило дневное уж к западу текло,
И в зареве багряном утопало;
Час смерти близился... и мрачное чело
В последний раз страдальца просияло.
С улыбкой тихою на запад он глядел…
И, оживлен вечернею прохладой,
Сколько жизни в картине умирающего! Прочитав эти стихи, можно чувствовать все превосходство(*) Преимущество, а не превосходство, так нам кажется. Какое из Изящных Искусств превосходнее, то ли, которое действует на душу и ум посредством слуха, или то, которое производит то же самое посредством зрения, решить нелегко. Что касается до преимущества, то оно состоит в свободе Поэта представлять вдруг многие картины в разных видах и мгновениях, между тем как Художник прикован, так сказать, к избранной им минуте. Зато последний, может быть, несравненно окончательнее и совершеннее в пластическом исполнении. Если нужны примеры, - вспомним Лаокоона. Лаокоон Виргилиев превосходен, но известная группа Лаокоона выше всех выражений слова. Издатель Поэзии перед Живописью и Скульптурою. Поэт, изображая одну минуту, властен дать несколько положений своему предмету, между тем как Живописец или Скульптор принужден ограничиться одним.
Он взором все искал Капитолийских стен,
С усилием еще приподнимался.
Превосходное движение! Оно так живо, так естественно и так трогательно, что читатель готов бы пожертвовать собственною силою, чтоб сообщить ее страждущему.
Но, мукой страшною кончины изнурен,
Недвижимый на ложе оставался.
Это положение приковывает взор к ложу Тасса. Чувствительный не может прочитать без слез последнего стиха.
И, оживлен вечернею прохладой,
Десницу к небесам внимающим воздел,
Как праведник, с надеждой и отрадой.
Вот торжество Христианской Поэзии перед языческою! Как ясна и понятна отрадная надежда умирающего Христианина. Он только один может видеть небеса внимающими.
Смотрите, он
сказал рыдающим друзьям,
Как царь светил на западе пылает!
Он, он зовет меня к безоблачным странам,
Где вечное Светило засияет…
Уж Ангел предо мной, вожатый оных мест;
Он осенил меня лазорными крылами…
Приближьте знак любви, сей таинственный крест…
Молитеся с надеждой и слезами!
Земное гибнет все: и слава, и венец,
Искусств и Муз творенья величавы;
Но там все вечное, как вечен сам Творец,
Податель нам венца небренной славы!
Там все великое, чем дух питался мой,
Чем я дышал от самой колыбели.
О братья, о друзья! Не плачьте надо мной:
Ваш друг достиг давно желанной цели.
Отыдет с миром он - и, верой укреплен,
Мучительной кончины не приметит:
Там, там... о счастие!…средь непорочных жен,
Средь Ангелов Элеонора встретит!»
Если бы стихи эти заставил Автор произнести другого Поэта, а не Тасса, то, может быть, они показались бы несколько выше произносящего лица: но в устах певца Иерусалима они дышат истиной. Кто посвятил талант свой прославлению Христианских доблестей, тот должен был чувствовать ничтожество всего земного и предпочитать ему небесное. Его поэма исполнена высочайшего учения Христианского. Пустынник Петр повсюду является как вдохновенный провозвестник оного. В одном месте он говорит Ринальду, приготовящемуся напасть на очарованный лес волшебника Исмена: "Сколько ты обязан Всевышнему! Его рука спасла тебя; она спасла заблудшую овцу и причислила ее к своему стаду. Но ты покрыт еще тиною Mиpa, и воды Нила, Гангеса и Океана не могут очистить тебя: одна благодать совершит cиe." В другом - Годофреду, желающему предпринять осаду города: "Ты приготовляешь земные орудия, а не начинаешь, откуда надлежит. Начало всего на небе. Умоляй Ангелов и полки Святых; подай пример набожности войску!" Но Автор наш совсем отступил бы от исторической истины, если бы заставил Тасса забыть об Элеоноре. Любовь непорочная не противоречит набожности. Напротив, они, кажется, поддерживают себя взаимно. Кто верит, тот любит со всею чистотою сердца; а кто любит, тот желает лучшей жизни. Эти два чувства и стремление к славе составляли душу Тасса. Надобно только заметить, с каким искусством Поэт изъяснился в сем случае! Какое благородство придал он земной страсти! Она уже не земная: она сливается с высокими, чистейшими надеждами умирающего Христианина.
И с именем любви божественный погас;
Друзья над ним в безмолвии рыдали.
День тихо догорал...и колокола глас
Разнес кругом по стогнам весть печали;
Погиб Торквато наш, воскликнул с плачем Рим:
Погиб певец, достойный лучшей доли!
Наутро факелов узрели мрачный дым -
И трауром покрылся Капитолий.
Сими стихами оканчивается Элегия; окончание быстрое, так сказать, внезапное; но в нем встречаешь все предметы, которые видел в продолжении целого стихотворения - и каждый предмет в надлежащем положении. Безмолвно рыдающие друзья, Рим, громко оплакивающий участь славного несчастливца, и Капитолий, покрывшийся трауром, живо рисуются в воображении нашем, и повергают душу в то мучительное и вместе сладостное самозабвение, когда ей так отрадны невольно льющиеся слезы. Вот, что составляет торжество сего рода Элегий!
Мы полагаем, что Умирающий Тасс есть лучшее стихотворение Батюшкова. Его все сочинения отличаются необыкновенно-счастливым созданием: в них мысли и чувства поражают читателя своею истиною, ясностью и легкостью; ход их всегда жив и точно обдуман. Но нигде столько невозможно удивляться превосходному составу стихотворения, как в Умирающем Тассе. Едва ли есть на каком-нибудь языке Элегия, которая бы, подобно рассматриваемой нами, соединяла в себе столько высокого, трогательного и прекрасного. Одним словом: как целое она совершенна. Мы хотели было привести что-нибудь сюда в сравнение из Элегии Овидия на смерть Тибулла; но, рассмотрев ее внимательнее, находим, что она (да не оскорбится тень Назона!) должна уступить Умирающему Тассу. Более половины Овидий наполнил одними холодными восклицаниями и рассуждениями о превратности всего земного. На конце только отделаны у него две занимательные картины: плач матери, сестры и Делии с Немезидою над умирающам Тибуллом - и прибытие его в Елисейские поля. Между тем, у нашего Поэта нет ни одного места в Элегии, которое бы не составляло превосходной картины или не заключало в себе самого трогательного чувства.
Напрасно стали бы говорить об отделке стихов в Умирающем Тассе. Благородство, ясность и точность выражений, полнота периодов и гармония стихов - неподражаемы. Мы с уверенностью готовы сказать: кто один раз прочтет это произведение, тот станет до тех пор перечитывать оное, пока всего не будет знать наизусть.
Источник : Плетнев И. А. Разбор элегии Батюшкова «Умирающий Тасс» / И. А. Плетнев // Журнал изящных искусств. – 1825. – Кн. 3. – С. 210–227.
Посвященная его любимому итальянскому поэту – «Умирающий Тасс» (см. полный текст). В жизни Торквато Тассо (Тасса) Батюшков видел аналогию со своей собственной и готов был в его трагической участи провидеть свое печальное будущее.
Начинается элегия с изображения торжества в Риме:
Какое торжество готовит древний Рим?
Куда текут народа шумны волны?
К чему сих аромат и мирры сладкий дым,
Душистых трав кругом кошницы полны?
До Капитолия от Тибровых валов,
Над стогнами всемирныя столицы,
К чему раскинуты средь лавров и цветов
Бесценные ковры и багряницы?
К чему сей шум, к чему тимпанов звук и гром?
Веселья он, или победы вестник?
Оказывается, что в Капитолии готовятся венчать лаврами великого поэта Тасса.
Но в это время, он сам, окруженный друзьями, умирает в келье; и –
…над божественной страдальца головой
Дух смерти носится крылатой.
Ни слезы дружества, ни иноков мольбы,
Ни почестей, столь поздние награды,
Ничто не укротит железныя судьбы,
Не знающей к великому пощады.
Полуразрушенный, он видит грозный час,
С веселием его благословляет,
И, лебедь сладостный, еще в последний раз
Он с жизнию прощаясь, восклицает:
«Друзья, о! дайте мне взглянуть на пышный Рим,
Где ждет певца безвременно кладбище.
Да встречу взорами холмы твои и дым,
О древнее квиритов пепелище!
Земля священная героев и чудес!
Развалины и прах красноречивый!
Лазурь и пурпуры безоблачных небес,
Вы, тополи, вы, древние оливы,
И ты, о вечный Тибр, поитель всех племен,
Засеянный костьми граждан вселенной:
Вас, вас приветствует из сих унылых стен
Безвременной кончине обреченный!
Свершилось! Я стою над бездной роковой
И не вступлю при плесках в Капитолий;
И лавры славные над дряхлой головой
Не усладят певца свирепой доли.
Рисуя в своей элегии угасание дня, к которому приурочено её действие, Батюшков устами Тасса сопоставляет его с угасанием жизни:
С улыбкой тихою на запад он глядел...
И, оживлен вечернею прохладой,
Десницу к небесам внимающим воздел...
«Смотрите, – он сказал рыдающим друзьям, –
Как царь светил на западе пылает!
Он, он зовет меня к безоблачным странам,
Где вечное светило засияет...»
Наконец, он умирает...
И с именем любви божественный погас;
Друзья над ним в безмолвии рыдали.
День тихо догорал, и колокола глас
Разнес кругом по стогнам весть печали,
«Погиб Торквато наш! – воскликнул с плачем Рим,
Погиб певец, достойный лучшей доли!..»
Наутро факелов узрели мрачный дым,
И трауром покрылся Капитолий.
Для элегии «Умирающий Тасс» характерно смешение образов, относящихся к совершенно разным культурам (что вообще отличает лирику Батюшкова): славянизмы («веси», «стогны», «игралище людей» – и это для описания Рима). Упоминаются здесь Ангел с «лазурными крылами» (который поведет поэта к его последнему пристанищу) и христианский крест. Пышны и красочны перифразы: «квиритов пепелище» (Рим), «царь светил» (солнце), «колыбель… несчастных дней» (Сорренто). Прекрасны поэтические сравнения: «Тибр, поитель всех племен», «